Мутная вода, рыжие реки, перекопанные долины бульдозерами — так большинство представляет себе россыпную добычу золота. Кажется, что это пережиток «золотой лихорадки» — примитивная, варварская добыча, от которой одни убытки и экологические скандалы.
Почему вокруг этой отрасли — сплошные запреты, жалобы и конфликты? Что стоит за россыпной добычей — равнодушие к природе или запутанная система, где невозможно работать по закону? О том, как на самом деле устроена россыпная добыча золота, рассказывает Алина Павловская, геолог из Магадана, уже девятый год сопровождающая лицензии, проекты и отчеты в этой сфере. Давайте разбираться вместе.

Россыпи — не рудники
Сейчас самая большая проблема, как я вижу, в том, что применяются общие правила — как для рудных месторождений, так и для россыпных. И это неправильно. Когда находится рудный объект, всё понятно: сначала поиски, потом разведка, большие инвестиции, фабрика, огромные деньги. Можно построить планы на 10 лет вперёд, оформить документацию, расписать программу, рассчитать экономику. А у нас совсем другая история.
Россыпь — это не какой-то монолитный объект. Это, по сути, концентрат продуктов разрушения рудного месторождения. Но этот концентрат неравномерный — реки, временные потоки, обвалы гор всё перемешивают. И золото в россыпях распределено кочками: где-то есть, где-то нет. Мы начинаем вскрывать полигон — а он не отходит (ред. прим.: участок не показывает промышленное содержание золота при промывке). Это нормально. Причины разные — крупность золота, качество разведки, геология.
Россыпная добыча всегда держалась на мобильности. Сегодня золото есть на одном ручье — завтра переехали на соседний. Так всегда работали. Если участок не отходит, недропользователь просто переходит дальше, чтобы выполнить свой план. Но сейчас всё стало сложнее. Чтобы перейти на другой полигон, нужно внести изменения в технический проект, оформить разрешения на воду и на лес. На воде обычно всё проходит быстро — в течение месяца, а вот лес сейчас оформляется по три месяца. Для Севера это почти весь сезон. Пока ждёшь согласования, техника простаивает, люди сидят без работы, и предприятие несет убытки.
Нас заставляют жить по правилам рудников, и в этом основная проблема.


Экология: реальные угрозы и формальные требования
Сегодня даже экологические нормы для россыпных предприятий написаны так, будто мы работаем на рудниках. Требования громоздкие, непосильные — и часто мешают природе больше, чем помогают. Экологический контроль нужен, но правила должны учитывать, где и как мы работаем. Когда нормативы пишутся по шаблону, страдают и предприятия, и сама природа. Здесь сразу видно, что нас воспринимают как рудные предприятия, хотя у нас совсем другая специфика. Всё это проявляется в конкретных вещах — от рекультивации до обращения с отходами.
Рекультивация, которая не работает
В Магаданской области от нас требуют проводить рекультивацию по тем же нормам, что и в Центральной России: «восстановить почвенный слой», «высадить деревья». Но на Севере это просто невозможно. Здесь нет плодородных почв — нечего «восстанавливать». Чернозём сюда не привезешь, да и толку от него не будет — он не приживется. У нас другие климатические условия, другой рельеф, другая экосистема.
Природа здесь сама прекрасно справляется. Через пару лет на месте выработанного участка появляются кедровый стланик, ольховник — всё зарастает естественным образом. Это и есть настоящая рекультивация, живая, природная. Но по нормативам такие участки считаются «нерекультивированными». И мы вынуждены высаживать растения, которые просто не выживают. Получается, что мы буквально закапываем деньги в землю.
Я всегда говорю: давайте делать всё с умом. У нас есть Институт биологических проблем Севера — это их профиль. Пусть именно они разработают региональные нормы рекультивации, которые учитывают особенности наших территорий. Мы, недропользователи, готовы это оплатить. Ведь куда разумнее направить деньги на реальные исследования, чем на формальное соблюдение мертвых правил.
Я вспоминаю, как главный геолог Магаданской области Юрий Прус рассказывал: в советское время пытались проводить «центральную» рекультивацию — и просто заилили долину реки. Когда всё оставили как есть, река сама восстановила русло. Природа здесь умеет лечить себя — нужно просто ей не мешать.
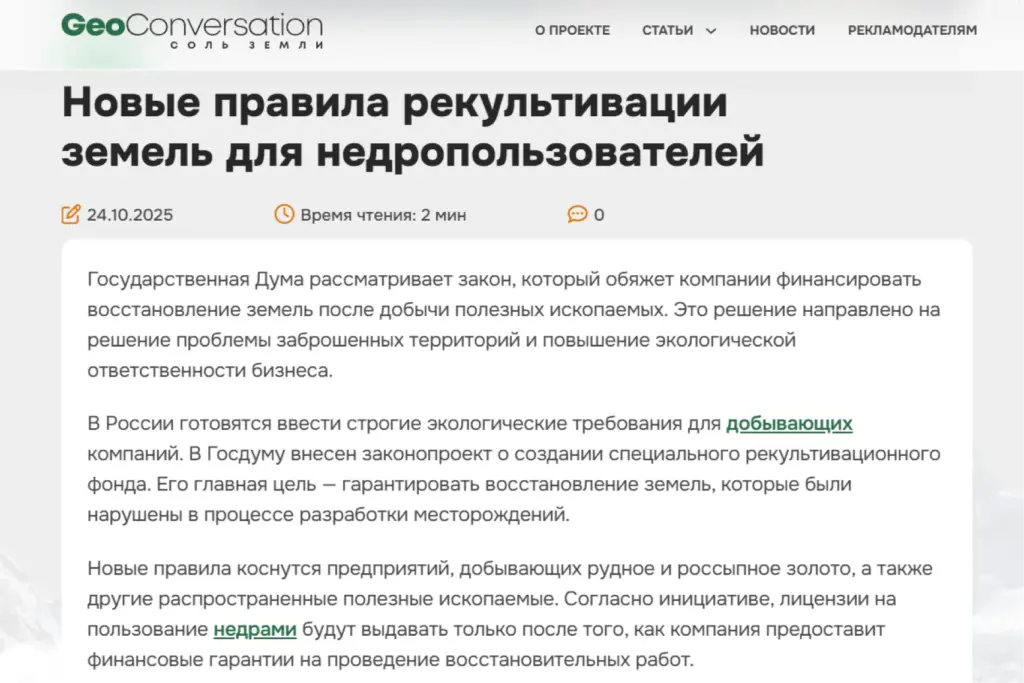
Галифели — «опасные отходы», в которых нет ничего опасного
Когда для всех предприятий ввели единые правила по обращению с отходами, оказалось, что нас просто приравняли к рудникам. Для рудных месторождений это логично — там хвостохранилища, реагенты, цианиды. Но у нас ничего подобного нет. Галифели — это обычные промытые камни. В них нет ни химии, ни реагентов, ни чего-то опасного. Это просто инертный материал, отмытый водой от глины, но по документам их относят к отходам. Чтобы их «хранить», нужно создавать специальные площадки, проходить экспертизы, получать разрешения — будто речь идет о хвостохранилище рудного комбината.
На деле в галифелях нет ничего вредного. Более того, их нередко перерабатывают повторно — когда меняются технологии или цена на золото. Это нормальная практика: золото ведь в галифелях может оставаться, и при новом оборудовании оно снова извлекается.
Но система не делает различий между рудными и россыпными предприятиями. Поэтому получается абсурд: добываешь золото чисто, без вреда для природы, а на бумаге — нарушитель. Классификацию отходов для россыпей нужно пересмотреть отдельно. Пока этого не произойдет, невозможно внедрять реальные меры экозащиты — всё время уходит на согласования того, что никакой опасности не несёт.

Когда экология действительно важна
Я не против экологического контроля — я против формализма, который подменяет суть. Мы готовы работать по новым правилам, но только если они выполнимы. Реальная угроза природе возникает не там, где не хватает бумажек, а там, где предприятия сливают промывочные воды прямо в реку. Тогда вода мутнеет, и река фактически погибает.
Так случилось на реке Бахапча — одном из самых красивых мест, которые я знаю. Горы, водопады, бирюзовая вода — и вдруг мутно-коричневая полоса. Один из недропользователей вел добычу на прямотоке, без очистки, то есть с прямым сбросом промывочных вод в реку, без системы отстойников. После этого я поняла: такие случаи не должны оставаться безнаказанными.
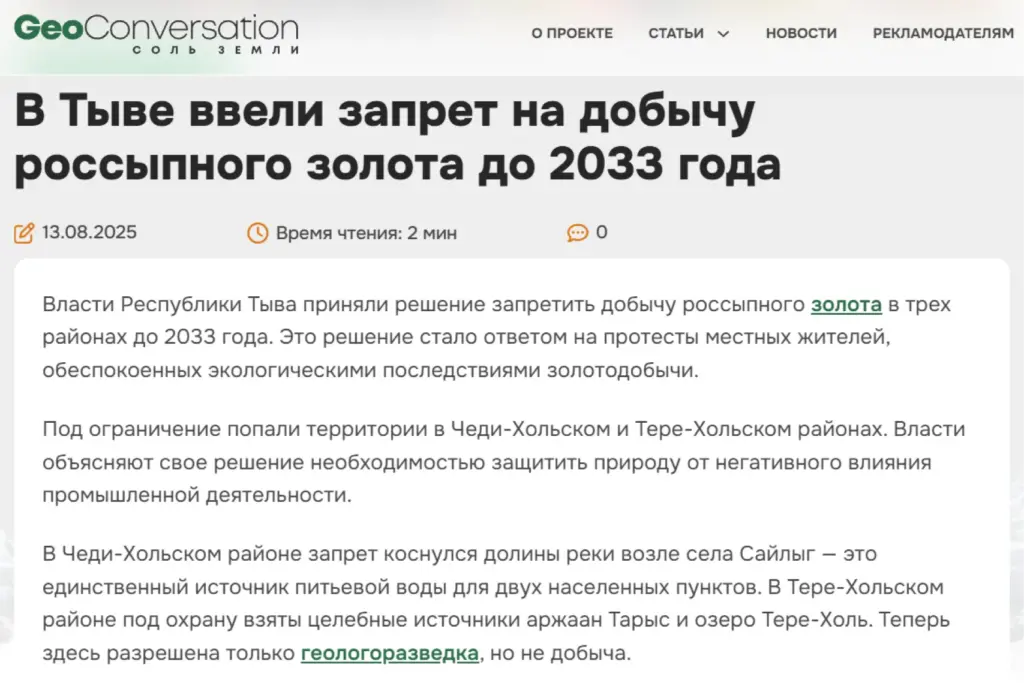
Но решать их нужно не запретами, а инженерно. Простая система илоотстойников — один или несколько каскадных прудов — позволяет воде очищаться перед сбросом. Это не требует миллиардных вложений, просто разумная организация процесса. Вот где должна быть настоящая экология — не в отчетах, а в работе.
Мы, недропользователи, готовы следовать новым, экологичным правилам. Но надо, чтобы эти правила были выполнимыми и разумными. Конечно, есть и те, кто по-прежнему работает по старинке — для них любые изменения тяжело даются. Они считают: «Вот есть техника, есть золото — зачем мне ваши бумажки?». Я таких людей понимаю, но сегодня это уже не работает. Сейчас, если не оформил вовремя документы, можешь потерять лицензию. Поэтому все должны перестраиваться. Старые схемы не спасут, нужно учиться работать по-новому.
Проблема в том, что Росприроднадзор сегодня выставляет требования, которые выполнить просто невозможно. Они пишут условия, рассчитанные на рудные комбинаты: сроки, процедуры, технические нормы — всё под «большие» предприятия. А мы сезонные, мобильные, и у нас физически нет возможности вписаться в такие рамки.
При этом Роснедра выдают лицензии и говорят: «работайте». А Росприроднадзор в это же время направляет официальное заключение: «мы против». Нам дают право добывать золото — и тут же отбирают его обратно. Мы оказываемся между двух структур, и никто не несет ответственности за то, что в итоге мы просто не можем работать.
Это не задача самих недропользователей — «биться» с системой. Мы выполняем все требования, сдаем отчеты, платим налоги, но столкновение нормативов делает честную работу невозможной. Проблема — между ведомствами. И решить её можно только наверху.
Роснедра и Росприроднадзор должны договориться между собой: согласовать требования, сроки, порядок процедур. Только тогда отрасль сможет работать легально и без потерь — и экология действительно будет защищена, а не имитирована на бумаге.
Тем не менее, я чувствую, что диалог всё-таки начинается. Недавно я была на форуме недропользователей в Хабаровске — и впервые за долгое время нас услышали. Мы смогли открыто говорить о проблемах и это уже шаг вперёд. Жаль только, что представителей Росприроднадзора там не было — именно с ними и нужно разговаривать. (По информации организаторов форума, представители Росприроднадзора присутствовали во второй день мероприятия. — Ред.).

Формализм экспертиз: когда бумага сильнее золота
Все проблемы в нашей отрасли сходятся в одной точке — в документах и экспертизах. От того, как быстро и с каким заключением их пройдет предприятие, зависит буквально всё: начнется ли сезон, успеем ли удержать лицензию и вообще — останемся ли на плаву.
Экологические требования — не единственные, где система не работает. Есть еще отчеты, согласования, экспертизы — те самые «бумажки», без которых нам нельзя сделать ни шага. Мы всё сдаём вовремя, в ноябре–декабре, строго по регламенту. По закону экспертиза должна длиться тридцать рабочих дней, но на практике заключения приходят в марте, апреле, иногда даже в мае. А ответственность за несвоевременную сдачу наступает уже 5 февраля. Получается, ты сделал всё по правилам — и всё равно нарушитель.
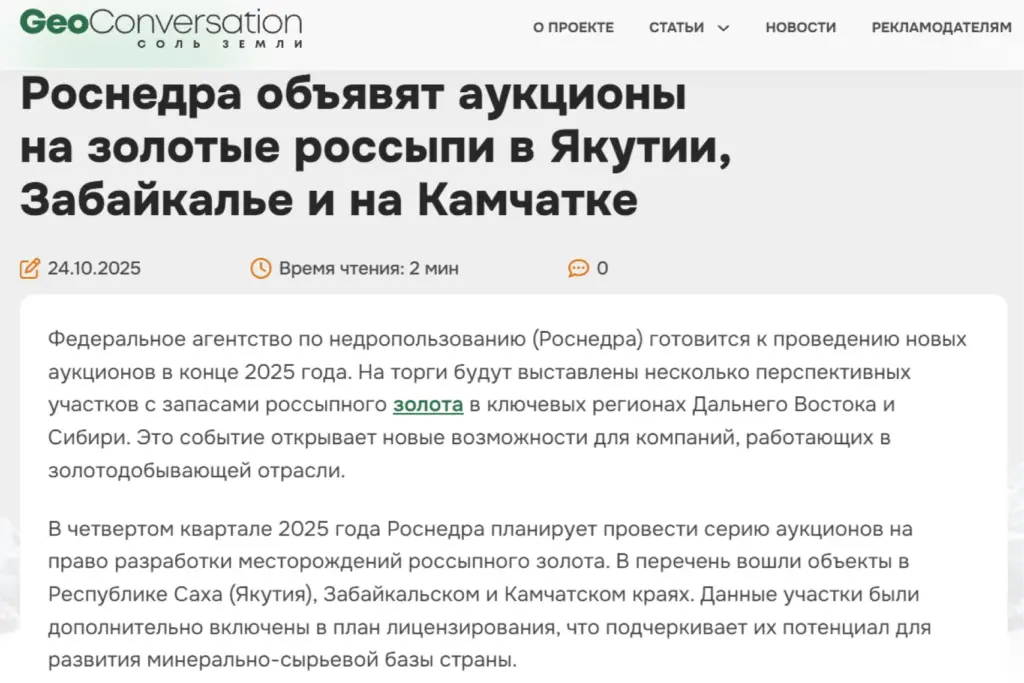
Сами экспертизы — отдельная боль. Даже если отчёт подготовлен идеально, никто не гарантирует, что он пройдёт. Эксперты тоже живые люди: у кого-то нет времени писать замечания, у кого-то — личные антипатии. И вот в последний день вместо аргументов появляется короткое слово — «отрицательно».
Они просто не успевают в срок. Вместо того чтобы выдать замечания, которые можно было бы исправить, эксперт, у которого уже горят сроки, пишет отказ — без объяснений, без конкретики. И что с этим делать дальше, непонятно: ни на что сослаться, ни что править.
Бывает и иначе: эксперты связаны с организациями, которые готовят отчёты, а затем специалисты из этого же круга участвуют в их проверке уже от других структур. Все об этом знают. Это не столько про коррупцию, сколько про систему, которая фактически контролирует сама себя — и потому не меняется.
Я знаю коллег, которые десятилетиями работают по всем правилам — и всё равно получают отказы. И это не просто бюрократическая мелочь. За каждой такой бумагой — сезон, зарплаты, оборудование, реальные люди. Реальное золото, которое могло бы быть поставлено на баланс страны, теряется между ведомствами.
Государство требует: «давайте приросты, новые запасы», а ведомство, которое должно их утвердить, блокирует процесс, чтобы показать, что оно «тщательно проверяет». Получается парадокс: государство просит результат, а система демонстрирует видимость контроля. И страдают не цифры — страдает отрасль.

Исчезающие артели
Все эти барьеры имеют конкретные последствия. Те, кто не выдерживает, уходят. Мелким предприятиям просто не выжить: слишком дорого, слишком долго, слишком сложно. Крупные артели не уходят — они все в кредитах, у них есть обязательства, они просто не могут остановиться.
Возможно, государству кажется, что так лучше: порядок, контроль, укрупнение. Но по сути это значит, что исчезает сама живая ткань россыпной добычи — сезонные артели, рабочие места, занятость в малых поселках, где других вариантов работы просто нет. Люди теряют работу и целые территории замирают.
Сейчас на рынок заходят совсем другие игроки — большие корпорации, вроде АЛРОСА или «Роснефти». У них нет никаких проблем с документами, с ресурсами, с согласованиями. Это совершенно другой масштаб и другие возможности. А мелкие предприятия, которые долгие годы держали на себе отрасль, уходят один за другим. И тогда возникает вопрос: действительно ли цель государства — развивать россыпную добычу, или наоборот — довести её до исчезновения?
Если задача — чтобы отрасль жила, нужно решать системные противоречия: Роснедрам и Росприроднадзору — договориться между собой, чиновникам — слушать тех, кто реально работает в полях. А если цель — чтобы остались только крупные, тогда всё логично: с мелкими просто не нужно считаться.
Типичный недропользователь в россыпях — это не корпорация. Это человек, у которого есть другой бизнес, и он вкладывается в добычу, создаёт десятки рабочих мест, платит налоги, обеспечивает жизнь в северных поселках. Он не просит льгот — только чтобы можно было работать по закону, а не вопреки ему.

Почему я здесь осталась
Иногда я думаю, почему всё ещё здесь — в этой отрасли, где столько сложностей, бюрократии и неопределенности. Почему не ушла в другое место, где всё проще и спокойнее. Наверное, потому что я действительно люблю эту профессию. Когда я училась в университете, у нас был один-единственный курс по недропользованию — и он казался самым бесполезным из всех. Сейчас я понимаю: работа с документами, проектами, лицензиями — это отдельная, очень важная часть геологии. И да, в вузах этому почти не учат — все приходится постигать на практике. Каждый новый закон, каждое требование — как отдельный эксперимент. Никогда не знаешь, сработает или нет, пока не попробуешь.
Со временем я поняла, что могу быть полезной не только своей компании. Всё чаще я помогаю начинающим недропользователям — консультирую, сопровождаю, объясняю, как пройти через эти лабиринты экспертиз и разрешений. У многих из них есть энергия и желание работать, но они просто не знают, с чего начать и куда идти. Мне хочется, чтобы у них получилось.
Я не хочу жаловаться и не ищу виноватых. Хочу, чтобы нас слышали. Чтобы государство перестало воспринимать «россыпников» как помеху или пережиток прошлого, а увидело в нас тех, кто реально держит экономику северных регионов.
Я люблю Магадан. Этот город давно стал для меня домом — со своей природой, людьми, ритмом жизни. Здесь всё настоящее: и труд, и золото, и характер. И, наверное, именно поэтому я здесь осталась. Я верю, что систему можно сделать не врагом, а партнёром. Ведь в основе у всех нас — и у государства, и у бизнеса, и у геологов — одна цель: чтобы золото добывалось с умом и с уважением к природе.
Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.









Дмитрий
По поводу отвалов и карьеров хотелось бы прокомментировать. Многие россыпники говорят, что отвалы и залитые водой карьеры увеличивают биоразнообразие ландшафтов. Не могу с этим не согласится. Действительно, чем разнообразнее ландшафт, тем выше его биопродуктивность. Но просто об этом говорить и что то доказывать чиновникам — впустую тратить свое время. Здесь необходимо последовательно выполнить несколько мероприятий. 1. Научное исследование (изучение заброшенных старательских полигонов на предмет биопродуктивности по сравнению с прилегающей территорией).2. Выработка методики рекультивации.3. Представление итогового отчета научно-исследовательской работы и методики рекультивации на обозрение в МПР и Росприроднадзор. 4. Изменение законодательства (со стороны МПР и Росприроднадзора). Да, это сложные и дорогостоящие мероприятия. Поэтому этим вопросом может заняться только очень крупная артель или сообщество артелей.
Мария Костина
Звучит здраво. Если говорить о биоразнообразии и биопродуктивности, то на уровне ощущений и отдельных наблюдений это может выглядеть убедительно, но для диалога с регуляторами этого недостаточно. Без системных данных такие аргументы не работают.
В этом смысле идея научного исследования выглядит логичной: сравнение заброшенных старательских полигонов с прилегающими территориями, разработка методики рекультивации и представление результатов в профильные ведомства — это единственный понятный путь, на который опирается система принятия решений.
Единственный важный момент — объективность. Чтобы у результатов был вес, исследования должны проводиться независимыми научными организациями, а не самими недропользователями, иначе неизбежно возникнет вопрос конфликта интересов. Только при таком подходе подобная работа может стать основанием для обсуждения изменений в нормативной базе.
Дмитрий
Да, необходимо брать на подряд Институт.
Делал как-то подборку статей по этой теме. Может кому-то пригодится. Можно в комментариях продолжить этот список.
1. В.И. Космаков Рекультивация земель, нарушенных разработками месторождений россыпного золота в Красноярском крае, как фактор техногенного преобразования ландшафтов., Сибирский государственный технологический университет, 2005.
2. Т.С. Чибрик, Е.И. Филимонова, Н.В. Лукина, М.А. Глазырина Формирование лесных фитоценозов на южном отвале Веселовского месторождения бурого угля, Екатеринбург, 2016
3. Н.В. Лукина, М.А. Глазырина, Е.И. Филимонова, Т.С. Чибрик, Х.И. Шаповалова. Формирование растительности на отвалах Баженовского месторождения хризотил-асбеста Екатеринбург, 2017.
4. В.М. Ивонин, А.В. Егошин. Мелиорация отвалов токсичного грунта. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(13), 2014.
5. Т.С. Чибрик, Лукина Н.В. Микоризообразование на разновозрастных отвалах Аккермановского железорудного месторождения (степная зона). Екатеринбург, 2017
6. Т.С Чибрик, Некоторые аспекты оценки опыта биологической рекультивации на угольных месторождениях Урала, Биологические науки.
7. Капитонов Д.Ю. Биологическая рекультивация отвалов вскрышных пород в районе КМА, Научный журнал КубГАУ, №75(01), 2012 года.
8. И.Н. Алиев, Я.В. Панков. Оптимизация техногенных ландшафтов Кабардино-Балкарской республики, Лесотехнический журнал 2/2014.
Мария Костина
Круто, в принципе основа для будущего исследования есть или, например, можно сделать обзорную статью на основе проведенных исследований
Алексей
Шикарная статья. Блин, а люди до сих пор живут в Магадане. Они уже герои. А бюрократия, перекосы и т.д. есть и будут всегда. Сколько проектов запорото из-за этого и сколько еще будет запорото.
Мария Костина
Спасибо! Не только живут в Магадане — ещё и любят этот город. И я восхищаюсь теми, кто умеет работать с отчётами, справками, регламентами. Это адская работа, и не каждый её выдержит.