На аукцион выставляют участок с запасами, подсчитанными по советской системе еще в 60–70-х. В отчетах — загадочные С1, С2, протоколы заседаний, и дата в шапке: 1970 год. Инвестору предлагают вложить сотни миллионов. Он смотрит на это — и не понимает, что покупает. Что скрывается за цифрами? Кто несет ответственность? И можно ли вообще им доверять?
В этом материале, подготовленном на основе подкаста, вместе с председателем комитета ПОНЭН Георгием Фрейманом и главным геологом компании GeoMineProject Александром Кузнецовым разбираемся, почему инвесторы всё чаще сомневаются в данных, рассчитанных по стандартам Государственной комиссии по запасам (ГКЗ), как работают международные стандарты отчётности, в чём их ключевые отличия — и почему переход на них становится неизбежным.

Почему инвесторы не доверяют цифрам в геологоразведке
Когда инвестор приходит на рынок недропользования, он покупает не просто участок земли. Он платит за информацию: за то, что скрыто под землёй, в каких объемах, с каким качеством и можно ли это добыть с прибылью.
Если цифрам в отчетах нельзя доверять — это уже не инвестиция, а игра в угадайку. Именно поэтому главный вопрос, который возникает у любого инвестора: насколько достоверны и проверяемы эти данные? Кто за них отвечает? И по каким правилам они получены?
В советской системе подсчёта запасов (ГКЗ) этот ответ неочевиден. Отчеты готовятся коллективно, проходят обсуждение на комиссиях, подписываются региональными отделениями. Но никто персонально не отвечает за цифры. В СССР это работало: заказчик был один — государство. В рыночной экономике такой подход больше не работает. Инвестор — главный заказчик, и ему нужна прозрачность.
Проблема не только в терминах, но и в процессе. Сегодня важно понимать, как именно получены данные: как отбирались пробы, в каких условиях, в каких лабораториях проводился анализ, как проверялись результаты. Без этого любые цифры — пустой набор категорий и таблиц.
«Если ты не знаешь, как отбирались пробы — ты не знаешь ничего»
подчёркивает Александр Кузнецов
Отсюда и необходимость единых, признанных стандартов — таких, в которых описано не только, что считать, но и как считать, кто считает, и кто за это отвечает. Эти стандарты позволяют инвестору разобраться: можно ли доверять отчету — и если да, то почему.

Что это за стандарты — и зачем они появились
Международные стандарты отчетности не возникли из-за любви к бюрократии. Их создали в ответ на реальные скандалы — когда инвесторов просто обманывали.
Один из таких случаев произошёл в 1970-х: австралийская компания Poseidon Nickel объявила об открытии крупного никелевого месторождения, акции взлетели в 40 раз, а месторождения не оказалось.
Другой — ещё громче: в 1997 году канадская Bre-X заявила об огромных запасах золота на месторождении Busang в Индонезии. Инвесторы вложили сотни миллионов долларов. Позже выяснилось: в пробы подмешивали золотую стружку. Компания обанкротилась, десятки тысяч людей потеряли деньги.




После этих историй стало ясно: без конкретных, общепринятых правил рынок доверия не выживет. Так появился кодекс JORC — первый в мире стандарт, где было прописано, что считать запасами и ресурсами, кто за это отвечает и как оформляется отчёт.
«JORC — это не про формат документа. Это про язык: четкие термины, понятная логика, прозрачная структура. По сути, это глоссарий и логическая рамка, которая позволяет геологу и инвестору говорить на одном языке»
объясняет Александр Кузнецов
Чтобы страны могли разрабатывать собственные стандарты, но при этом сохранялась единая логика и сопоставимость, на основе JORC был создан шаблон CRIRSCO. Он включает базовую терминологию и таблицу требований к структуре отчета. Сегодня к CRIRSCO относятся более 15 национальных кодексов — от Канады и Чили до Казахстана. И именно CRIRSCO — это и есть международные стандарты в полном смысле: универсальные, сопоставимые, принятые рынком.
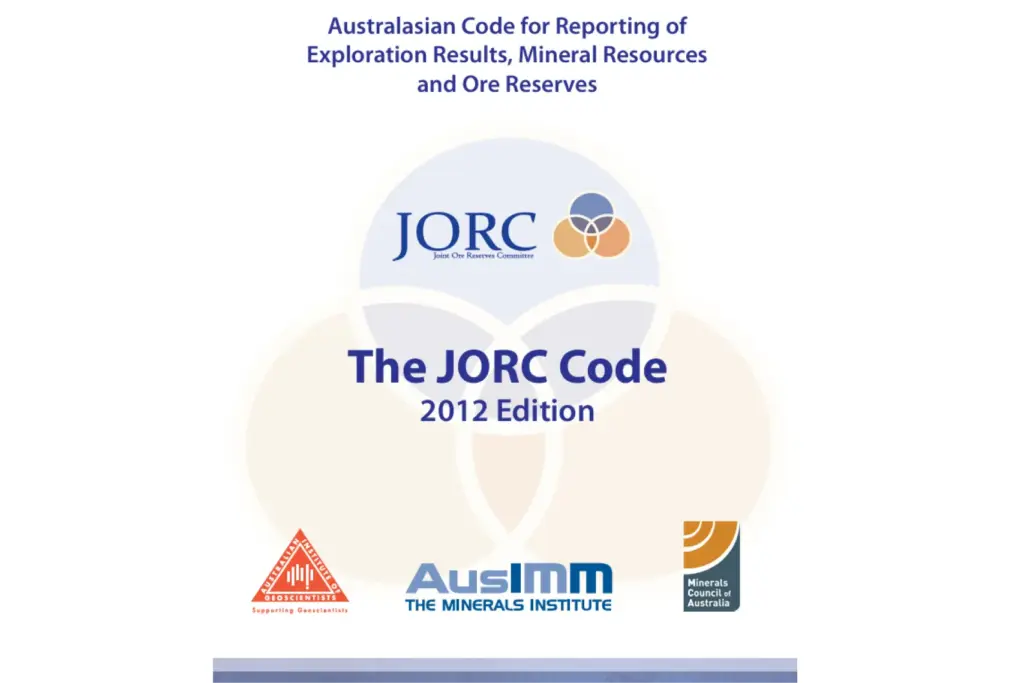
Как Казахстан перешел на международную систему
До 2010-х годов в Казахстане, как и в России, работали по ГКЗ. Отчеты готовились для государства, но никак не для инвестора. Когда в страну стали заходить международные компании, возникла проблема: им нужны были отчёты по JORC, а не по ГКЗ.
«К нам приходили инвесторы — и просили пересчитать запасы. Потому что они просто не понимали, что такое С1, С2, по каким принципам это посчитано, кто это проверил и на каком основании сделан вывод»
вспоминает Георгий Фрейман
Началась двойная работа: казахстанские недропользователи параллельно заказывали международную отчетность, чтобы хоть как-то объяснить инвесторам, что у них есть. В какой-то момент стало понятно: проще ввести один стандарт, чем делать два.
В 2015 году Казахстан официально заявил о переходе на систему CRIRSCO. Был создан национальный кодекс KAZRC, построенный по шаблону CRIRSCO — с теми же принципами, терминами и требованиями. Ключевое отличие от ГКЗ — персональная ответственность компетентного лица и прозрачность всей логики работы. В 2016 году Казахстан стал полноправным членом CRIRSCO.
«Это не реформа сверху. Это логичный ответ на запрос рынка: если хочешь привлекать инвестиции — говори на понятном языке»
говорит Фрейман
Сегодня в Казахстане по международным стандартам считается большинство новых проектов по твёрдым полезным ископаемым. А отчёты по ГКЗ остались лишь в отдельных сферах (например, для воды и углеводородов). С 2024 года это разграничение закреплено на уровне законодательства.

А в России?
Сегодня в России по-прежнему используется система ГКЗ — с советскими корнями и логикой подсчёта, ориентированной на государство, а не на инвестора. Попытки гармонизировать её с международными стандартами были, но пока остаются на уровне дискуссий.
«Была попытка в 2018 году разработать новую классификацию, но она не утвердилась. Попытались подготовить методические рекомендации — Минюст не пропустил. Сейчас тема снова в работе»
объясняет Артем Васильченко, эксперт ФБУ «ГКЗ»
Активное движение сейчас идёт в сторону новой классификации для твёрдых полезных ископаемых, где добавлены критерии технологичности, экономичности и другие. Но это не международные стандарты, а внутренние попытки улучшить российскую систему.
Для компаний, которые всё же хотят привлекать инвестиции за рубежом, остается стандартный путь: собрать отчёт по ГКЗ → передать материалы международной консалтинговой компании → получить расчёт по CRIRSCO / JORC, подписанный компетентным лицом → использовать его для привлечения капитала.
«Такой путь работает. Да, это стоит денег. Но если хочешь, чтобы инвесторы тебе поверили — это единственный понятный формат»
говорит Артем Васильченко
Россия пока не планирует официального перехода на международные стандарты. Но гармонизация обсуждается, и запрос на понятную, прозрачную отчётность с персональной ответственностью звучит всё чаще.

ГКЗ против международных стандартов: отличия
Теперь, когда мы разобрались, как устроены международные стандарты и зачем они нужны, давайте посмотрим, чем именно они отличаются от привычной системы ГКЗ — и почему этот переход становится не просто модным трендом, а необходимостью. Когда сравниваешь ГКЗ и международные стандарты вроде JORC, CRIRSCO или KAZRC, разница видна сразу. Она складывается из нескольких ключевых моментов.
Язык и логика: почему термины ГКЗ непонятны инвестору
В системе ГКЗ и в международных стандартах используются разные подходы к описанию недр — это по сути два разных «языка». Один из наглядных примеров — различия в понимании терминов «ресурсы» и «запасы».
В ГКЗ действуют категории C2, C1, B и A, отражающие степень изученности месторождения. Их задача — последовательно переводить данные из одной категории в другую, повышая достоверность: из предполагаемых в оцененные, затем в установленные и полностью разведанные. В советской системе было важно зафиксировать и классифицировать всю минерализацию — независимо от того, можно ли её извлечь.
В международных стандартах подход иной. Здесь чётко разделяют ресурсы (то, что потенциально можно извлечь при определённых условиях) и запасы (часть ресурсов, которую реально можно добыть и переработать с экономической и технической точки зрения). Это ключевое отличие: в основе — не только геология, но и реализуемость проекта.
«В международных кодексах используется более прозрачная терминология — например, “предполагаемые ресурсы” и “подтвержденные запасы”. Даже инвестор без геологического образования понимает, о чём речь»
объясняет Александр Кузнецов
Такой сдвиг особенно важен, когда речь идёт об инвестициях: терминология должна быть интуитивно понятна — без необходимости расшифровывать, что стоит за аббревиатурами вроде C1 или B.
В советской системе, например, «ресурсами» могли считаться любые проявления минерализации, даже если у них нет промышленной перспективы. Так, в Казахстане действительно есть месторождения алмазов, но они низкого качества и подходят лишь для технических целей. Разрабатывать их нерентабельно, но в ГКЗ они всё равно учитывались как ресурсы. В международной системе такие объекты не попадают в расчёт: здесь ресурс — это то, что действительно может быть освоено.
Аналогично и с запасами: в отчетах по ГКЗ могли оставаться запасы, которые физически невозможно извлечь (например, из-за обрушения шахты), в то время как международная система признает только те запасы, которые реально можно добыть и превратить в товарную продукцию.
Такой сдвиг в терминологии — это не просто семантика. Это способ выстроить прозрачную коммуникацию с инвестором, который не обязан быть геологом, но должен точно понимать, что именно он покупает.
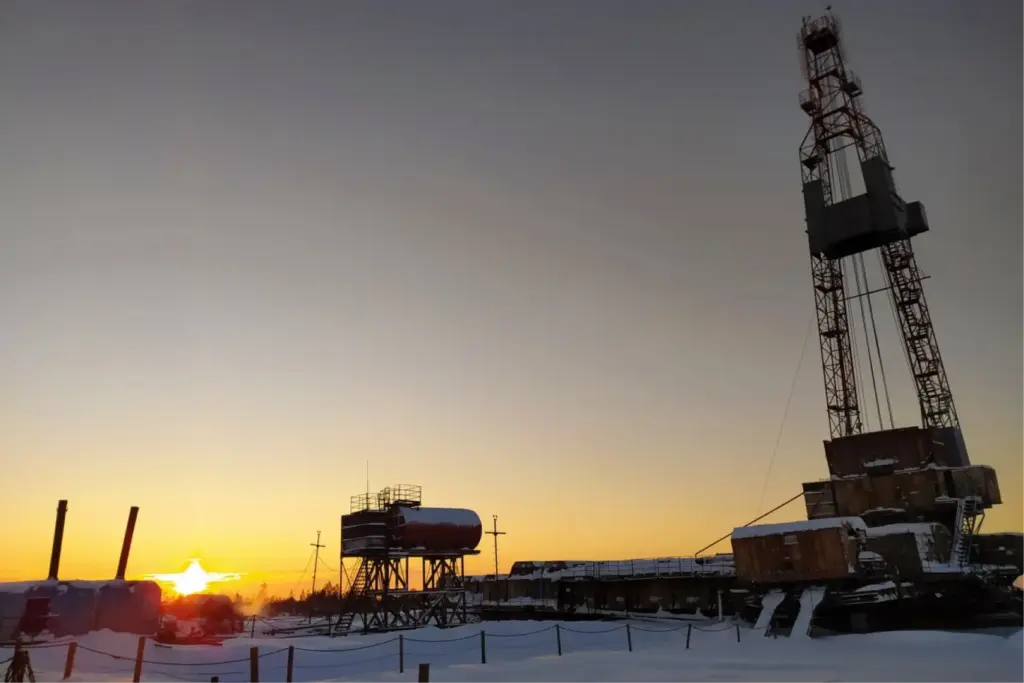
Кто отвечает за цифры: коллективная экспертиза или личная подпись
В советской системе ГКЗ отчёт готовится коллективно. Его рассматривает региональное отделение, создаются экспертные группы, всё проходит через коллегиальные заседания и утверждается протоколами. Но за итоговые цифры никто персонально не отвечает — ответственность размазывается между ведомствами и комиссиями. Это логично для системы, где заказчиком выступало государство, а не инвестор.
«В СССР не нужно было доказывать достоверность. Государство верило своим же цифрам — система была замкнутая»
поясняет Георгий Фрейман
В международных стандартах принцип другой: отчёт подписывает компетентное лицо (Competent Person), которое несёт личную юридическую ответственность за предоставленные данные. Это специалист с подтверждённой квалификацией и опытом, включённый в официальный реестр (в случае с Казахстаном — ПОНЭН). Подпись такого эксперта означает, что он ручается за методику, данные, интерпретацию и выводы в отчёте.
«Ты подписался — значит, несёшь ответственность. И если что-то не так — это твоя репутация и, в некоторых случаях, даже уголовная ответственность»
подчёркивает Фрейман
Именно этот принцип и формирует доверие инвесторов. Они понимают, кто именно сделал расчёты, какую квалификацию он имеет и на чём основаны выводы. В ГКЗ таких гарантий нет — только общее имя учреждения. В XXI веке этого недостаточно.
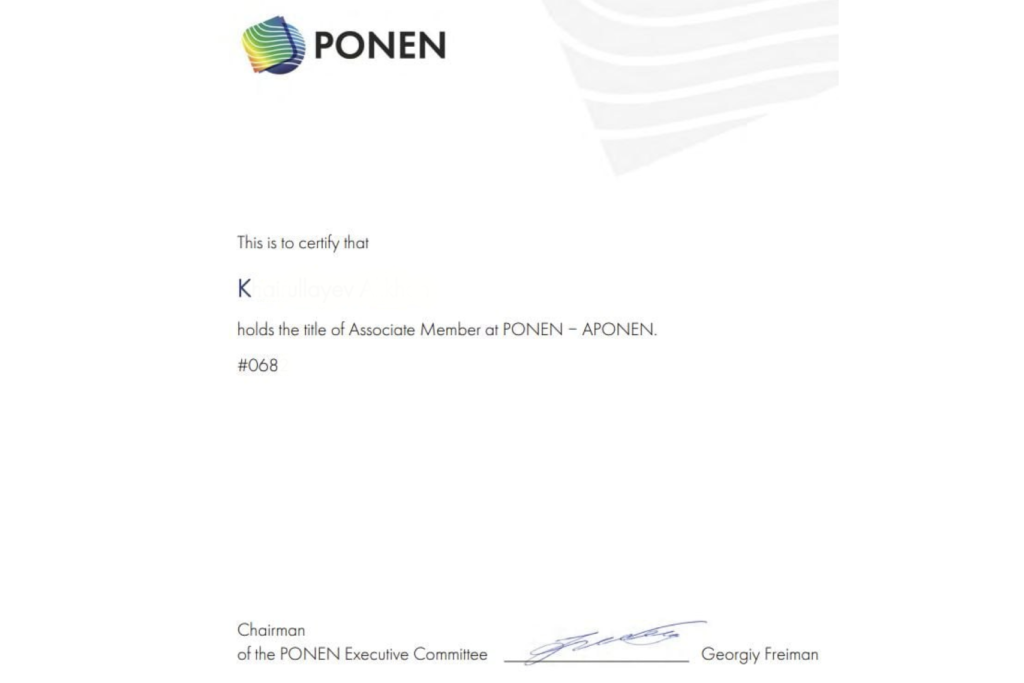
Гибкость против инерции: в чём разница подходов
Одна из ключевых проблем системы ГКЗ — негибкость. Основные технико-экономические параметры, по которым рассчитываются запасы — так называемые кондиции — утверждаются государством и практически не подлежат пересмотру. Если меняется рыночная ситуация (например, падают цены на металл или появляются новые технологии переработки), это не отражается автоматически в расчётах. Чтобы изменить кондиции, нужно пройти длинный согласовательный путь, который может занять до года.
«В советской системе ничего не менялось десятилетиями. Кондиции были раз и навсегда, под жёсткий план. Сейчас так не работает — нужна гибкость»
поясняет Георгий Фрейман
А если проект попадает на экспертизу, процедура может длиться до трёх месяцев. Учитывая, что отчеты рассматриваются в выходные, задействованы разные эксперты, и нет персональной ответственности, изменения в проекте становятся крайне затруднительными.
В международных стандартах (например, KAZRC по шаблону CRIRSCO) вся система устроена иначе. Во-первых, отчёт готовит компетентное лицо, которое несёт персональную ответственность. Во-вторых, на рецензию уходит от 14 до 30 дней. Но главное — отчёт может быть оперативно обновлён в случае изменения рыночных или технологических условий.
«Если цена на металл изменилась — вы просто пересчитываете экономику проекта, обновляете кондиции и подаете уточненный отчет. Без этого в современной горной отрасли невозможно быстро принимать решения»
добавляет Фрейман
Таким образом, международные стандарты позволяют адаптироваться к рынку. Это особенно важно, если речь идёт об инвестициях — ни один инвестор не будет ждать год, пока пересчитаются устаревшие данные.

Почему геологи сопротивляются международным стандартам
Переход на стандарты JORC, CRIRSCO или KAZRC — это не просто смена методики, а изменение мышления. Главный барьер — ментальный. Многие специалисты десятилетиями работали «по-старому» и не видят смысла что-то менять: зачем переучиваться, сдавать экзамены, если система вроде бы работает?
«У нас подход такой: «работает — не трогай». Даже спустя почти 10 лет после запуска KAZRC, часть геологов в Казахстане по-прежнему скептически настроены»
отмечает Георгий Фрейман
Кто-то пассивно игнорирует изменения, кто-то активно пытается затормозить реформу. Но процесс идёт. В последних посланиях президента Казахстана отдельным пунктом звучала необходимость завершения перехода на международные стандарты. И когда смена системы становится политическим приоритетом — это уже не остановить.
А теперь посчитаем: зачем компании менять систему
Сопротивление — это эмоции. Но есть и финансовые доводы, которые невозможно игнорировать.
«По нашим прикидкам, подготовка отчёта по KAZRC может обходиться примерно на 40% дешевле, чем по ГКЗ», — говорит Георгий Фрейман. — «Вероятно, это связано прежде всего с форматом: отчёт подаётся в электронном виде, вместе с базой данных и моделью. Бумага остаётся только как формальность для геофондов, а раньше на неё уходили ресурсы — и деньги, и время».
При KAZRC отчёт подаётся в электронном виде — вместе с базой данных и геологической моделью. Бумажный вариант сохраняется лишь как формальность для геологических фондов. Это не только ускоряет процесс, но и снижает расходы: вместо сотен чертежей, которые раньше требовалось печатать в трёх экземплярах, модель можно визуализировать на экране, масштабировать и, при необходимости, распечатать лишь отдельные элементы.
В цифровом формате можно сделать хоть тысячу карт — и это ничего не стоит, в отличие от бумажных распечаток, которые ранее занимали до трети бюджета.
Электронная подача даёт ещё одно преимущество — упрощенный доступ к информации. В системе ГКЗ отчёты складируются в геофондах, где теряются, портятся, требуют затрат на хранение и долгое согласование. Несмотря на многолетние обещания, оцифровка архива ГКЗ до сих пор не завершена, и это создает монополию на доступ к данным.
«Республиканские фонды жалуются: у них негде хранить отчеты, документы портятся в сырых помещениях и приходят в негодность. Но мы ведь живём в XXI веке — пора отказаться от бумаги. Всё можно хранить в электронном виде, с дублированием и необходимой защитой. Это элементарно»
говорит Георгий Фрейман
В KAZRC всё устроено иначе: отчёт в электронном виде передается в Комитет геологии, где ставится на учёт. Сами материалы остаются конфиденциальными — они принадлежат недропользователю. Но в открытом доступе публикуется сводная таблица: с названием месторождения, датой принятия отчета и именем компетентного лица. Этого достаточно, чтобы убедиться: работа выполнена, и за неё кто-то несёт ответственность.

Доверие инвестора начинается с профессионализма геолога
Международные стандарты подсчета запасов — это не формальность и не «мода на Запад». Это ответ на реальный запрос рынка. Инвестору нужно понимать, во что он вкладывается. Он не читает между строк и не знает, что скрывается за категориями «С1» или «А» в отчёте по ГКЗ. Он хочет видеть прозрачные данные, проверенные методики, персональную ответственность и возможность привлечь капитал. Именно для этого создавались стандарты JORC, CRIRSCO, KAZRC и другие — не как альтернатива, а как новая система координат, выстроенная под задачи открытого рынка.
Сегодня геолог не может оставаться в стороне от этих изменений. Мы больше не в СССР, где действовала плановая экономика, а единственным заказчиком было государство. Времена, когда геолог сам себе был и экспертом, и контролером, остались в прошлом. Сейчас всё измеряется инвестициями, репутацией и доверием. И именно специалист — тот, кто считает запасы, готовит отчет и ставит подпись — становится ключевой фигурой. Геолог либо осваивает новую систему, либо выбывает из игры.
Александр Кузнецов говорит об этом просто и честно: геолог не может остановиться в развитии. Профессия требует постоянного движения вперед. Он приводит личный пример: недавно окончил магистратуру и признается, что каждый новый проект в консалтинге дает ему возможность углубиться в новые области — от геомеханики до геостатистики. Даже если это напрямую не требуется для текущей задачи, желание «копнуть глубже» становится привычкой.
Во всём мире профессиональные сообщества поддерживают этот путь. В каждой стране действуют десятки объединений геологов, гидрогеологов, геомехаников, проектировщиков. Их цель — не просто следить за отраслью, а помогать специалистам оставаться востребованными.
«Это то, что я могу искренне посоветовать коллегам. Вставайте на этот путь и идите по нему. Потому что только так можно оставаться сильным специалистом. И только так можно с уважением относиться к своей профессии»
говорит Александр Кузнецов
А вы что выбираете — привычку или развитие? Поделитесь в комментариях.
Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.









Евгений Мальцев
Различие двух систем действительно является очень острой проблемой. И дело тут вовсе не в тонкостях классификации запасов по российским или международным категориям, и даже не в форматах отчетности для инвесторов и распределении ответственности за нее. Гораздо острее стоит вопрос существующего государственного учета того, что мы предлагаем называть «рентабельным сырьем». Проблема в том, какие ценностные критерии и инструменты использует ГКЗ для выделения этого самого «рентабельного сырья», и насколько эти критерии и инструменты, мягко говоря, несовершенны, если не сказать – убоги и неэффективны.
Этими устаревшими инструментами, до сих пор приемлемыми с точки зрения ГКЗ, является геометризованное пространство с помощью контуров и каркасов ( которые, к счастью, стали уже трехмерными), ограниченное по упрощенными и малоинформативным критериям :
Бортовое содержание металла и Кондиционная мощность.
В пределах этого пространства, ограниченного кондициями для оценки качества «рентабельного сырья» распространяется, чаще всего, одно усредненное содержание металла , распространяемое на объем руды, сопоставимый с годовой производительностью рудника – одно единственное значение, игнорирующее пространственную изменчивость содержания. Справедливости ради стоит отметить, что уже есть прецеденты, когда запасы утверждаются по данным блочной модели (хотя и с огромными трудностями, требующими трудозатратного 100% заверочного подсчета традиционными методами). В этом случае при оценке качество «рентабельного сырья» уже учитывается пространственная изменчивость содержаний. Однако этот «потолок», которого достигла ГКЗ за последние несколько десятилетий, все еще очень низок и находится где-то в районе «плинтуса», если задуматься.
Причина столь низкой оценки «продвинутости» системы госучета кроется в том, что, стремясь к достоверной и реальной оценке «рентабельного сырья», система применяет весьма ограниченные ценностные критерии и инструменты. Дело в том что ценностные критерии « рентабельного сырья» — это не только Бортовое содержание металла и Кондиционная мощность, с учетом которых утверждаются запасы по принципу «все, что посчитали, то и поставили на госбаланс», без учета того, какая часть из этого является извлекаемым рентабельным сырьем
Современная модель месторождения – это нечто большее, чем модель для оценки содержаний, и по сути должна рассматриваться как 3D платформа, которая объединяет в общую модель недр множество переменных (геометаллургических, геомеханических, технологических, гидрогеологических, и в конечном счете, экономических), что позволяет получить более-менее достоверную финансово-экономическую модель отработки месторождения. Например, при существующих ценностных критериях госучета на баланс ставятся запасы, подсчитанные со стопроцентным извлечением металла , что нереально в принципе.
Не менее упрощенно представляются современные методы построения оптимального карьера (ведь именно границы оптимального карьера ограничивают балансовые запасы, утверждаемые ГКЗ). Границы открытых горных работ в ТЭО определяются с применением компьютерного моделирования. В качестве основного метода отстройки конечных контуров карьеров используется программное обеспечение по алгоритму Лерча-Гроссмана. Однако при этом единственным критерием, который используется с учетом его пространственной изменчивости, — это содержание металла и лишь в очень редких случаях, — пространственная изменчивость показателей извлечения металла. Остальные не менее важные факторы (например геомеханические и гидрогеологические параметры), которые также имеют свою пространственную изменчивость и оказывают существенное влияние, не используются при расчете оптимального карьера. Это также накладывает свои дополнительные погрешности в оценке количества и качества того самого «рентабельного сырья . В итоге производятся погрешности и утверждаются запасы, при том что современные методы моделирования уже позволяют оценивать модель недр по любому множеству переменных.
Могут-то они могут, «да кто же им даст»… если даже блочные модели, учитывающие пространственную изменчивость показателей извлечения, с огромным трудом проходят экспертизу ГКЗ (что подтверждено личным опытом). При этом заметим, что большинство высказываний о неэффективности таких блочных моделей , как правило, базируется либо на устаревших представлениях о возможностях современных программных продуктов, либо на очевидных ошибках, допущенных в процессе моделирования.
Причина различия в методах и принципах выделения границ «рентабельного сырья» по российским или международным стандартам кроется в разных внешних условиях и разных принципах. В западной системе главным приоритетом при оценке запасов и минеральных ресурсов является инвестиционная прозрачность и привлекательность эксплуатации месторождения, а для российской системы подсчета запасов приоритетом является полнота использования недр.
Комментарий отредактирован модератором: удалены прямые ссылки на сторонние ресурсы. Текст представляет собой цитату из уже опубликованной статьи автора на внешнем ресурсе. Мы просим участников дискуссии излагать свою позицию напрямую в комментарии, а не вставлять фрагменты из других материалов без пояснений.
Евгений Мальцев
Спасибо коллегам из канала «Соль Земли» за интересную статью о наболевшем !
Считаю полезным поделиться фрагментом (несколько доработанным) ранее опубликованной на нашем канале статьи «Сравнение российской и зарубежной систем подсчета запасов твёрдых полезных ископаемых»
Комментарий отредактирован модератором: удалены внешние ссылки
Мария Костина
Спасибо за комментарий. Будет здорово, если вы оформите своё мнение прямо здесь, под статьёй на сайте — не в виде ссылки, а как полноценный комментарий. Тогда и другие специалисты подключатся, может быть, разовьётся интересная дискуссия. Нам как раз важны разные точки зрения — и особенно аргументы из практики…а ссылки пусть идут следом за мнением, а не вместо него 😉